7 апреля 2011
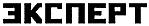
Они проголосовали за лидера
7 апреля 2011
Они проголосовали за лидера
07 апр 2011, 09:36, «Expert Online»
Павел Быков
Монархии или страны с элементами монархического устройства обычно политически устойчивее стран с демократической политической системой, особенно если речь идет о недостаточно развитых и укорененных демократиях. Это давнее, в общем-то, наблюдение получило во время нынешней волны восстаний в арабских странах новое - и весьма наглядное - подтверждение.
Контраст в степени устойчивости таких стран, как Тунис, Египет и Ливия, с одной стороны, и Марокко, Иордания и Бахрейн - с другой, был бы, пожалуй, еще нагляднее, если бы не упертый ливийский полковник. Как знать, не прояви Муаммар Каддафи характер, может, сегодня мы наблюдали бы бомбардировки Йемена или Сирии. Но силы западных держав сегодня настолько истощены, а решимость и единство подорваны, что и с Ливией справиться не могут. До остальных руки тем более не доходят: даже в смысле времени на показ революционных телерепортажей.
Впрочем, речь не о событиях в арабском мире (писать и читать о них помаленьку надоедает), речь о нашем добром соседе и важнейшем партнере - о Казахстане.
Правящий независимым Казахстаном вот уже двадцать лет Нурсултан Назарбаев на досрочных президентских выборах в минувшее воскресенье одержал убедительнейшую победу - 95,55% голосов. Злопыхатели уже успели высказаться и по поводу «подозрительного» единодушия казахстанских избирателей, и по поводу спешки с назначением даты инаугурации (8 апреля), и по поводу «арабских» перспектив Казахстана - в более или менее недалеком будущем. Президент Назарбаев вряд ли нуждается в моей защите, но поскольку так получилось, что последнюю неделю перед казахстанскими выборами мне довелось провести в Астане и Алма-Ате, не могу не поделиться некоторыми своими наблюдениями.
Главное, что поразило меня в эту поездку в Казахстан, где я не был два года, - возросшая нервозность казахов по поводу национального вопроса. Внешнему человеку может быть трудно в это поверить, но, оказывается, этнические казахи в Казахстане ощущают растущее демографическое давление не меньше, чем русские в России. А может быть, и больше - в Казахстане казахи составляют около половины населения, тогда как русские в России около 80%. В период экономического бума Казахстан стал притягивать к себе иммигрантов - киргизов, узбеков, таджиков и даже азербайджанцев. Что неудивительно, ведь уровень жизни в Казахстане близок к российскому - 12,8 и 15,9 тыс. долларов ВВП на душу населения соответственно (для сравнения: ВВП на душу в Узбекистане - 3,1 тыс. долларов, в Киргизии - 2,2 тыс. долларов, в Таджикистане - 2 тыс. долларов). Добираться же до него заметно проще.
На повседневном уровне межэтническое напряжение в Казахстане совершенно отсутствует. Люди свободно общаются, решают все возникающие бытовые и хозяйственные проблемы без апелляции к национальному вопросу. Опасность кроется в другом - внутри каждой этнической группы существуют политически активные сообщества, которые хотят пересмотреть межэтнический статус-кво. Казахстанские националисты хотели бы видеть Казахстан «более казахским». Тут и вопрос повышения статуса казахского языка, и ограничение миграции, и иное перераспределение нефтегазовых доходов. Так, сегодня в более бедных и сравнительно моноказахских западных областях Казахстана отмечается существенное недовольство тем, что местные жители не видят зримого повышения благосостояния от добываемых здесь нефти и газа.
У русских, которые с украинцами и белорусами составляют более трети населения страны и которые имеют свою зону компактного проживания на севере страны, свои националисты - требующие более широкого представительства славян в органах власти. Среди уйгурских националистов ходят свои планы - повышение роли своего этноса через активизацию поддержки уйгурского сепаратизма в китайском Синьцзяне. Свои претензии и у чеченских активистов (у страны уже есть печальный опыт более или менее регулярных казахско-чеченских столкновений). И на это все накладывается активизировавшийся с притоком мигрантов процесс исламизации - пока Казахстан остается еще преимущественно светской страной, но рост влияния политического ислама уже отмечен.
Парадокс же заключается в том, что все указанные группы видят в политической либерализации механизм достижения своих целей. Каждая из этих групп рассматривает нынешнюю политическую систему как препятствие. Мол, появятся в Казахстане «подлинно свободные» президентские, парламентские и региональные выборы, и тогда можно будет «получить свое». Модельно казахстанская ситуация очень напоминает СССР к моменту начала демократизации (да и югославскую ситуацию тоже), которая и вывела на авансцену националистов всех мастей. Это вообще своего рода политический закон, что при политической либерализации в многоэтнических странах в авангарде встают националисты. Тут и лозунги проще и ярче, и обыватели, опасаясь «чужих» националистов, предпочитают голосовать за «своих», рассчитывая на защиту и будущие дивиденды. Проигрывают же от подобных сценариев эскалации все.
В том, что ситуация в Казахстане находится под контролем, исключительная заслуга президента Нурсултана Назарбаева, который сумел провести страну через опаснейший период 1990-х годов и сформировал в стране квазимонархический режим, - безусловный личный авторитет Назарбаева (что и показали итоги выборов, которые действующий президент провел под лозунгом «Мы голосуем за лидера») сплачивает различные этнические группы примерно так же, как это делает личность монарха. Возможно, нынешняя система кому-то нравится меньше, чем идеальные схемы из политологических учебников. Возможно, она накладывает ряд ограничений на характер экономического развития страны. Но надо понимать, что, во-первых, государственный аппарат в Казахстане функционально эффективен и реально подконтролен центру, а во-вторых, риски при сохранении нынешней системы на порядок ниже, чем при потере контроля над процессом политической либерализации. Трансформация политической системы, возможно, и необходима, но проводить ее нужно крайне аккуратно.