1 июня 2002
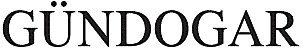
Золотой век глазами учителя
1 июня 2002
век глазами учителя
Ниже публикуются текст, освещающий положение в сегодняшнем Туркменистане. автор - Эван Трейс (США), учитель, доброволец от Корпуса Мира в Туркменистане (1996-1999 г.г.)
Говорят, что воображение особенно разыгрывается там, где сходятся горы и пустыня. Всего в нескольких километрах от современной столицы Туркменистана Ашгабата, в том месте, где древние парфяне, захватившие в свои руки империю Александра Великого, основали столицу собственного царства город Ниса, нет уже ничего, кроме груды пыльных холмов. Трудно даже себе представить, что здесь нашли завоеватели. Кроме тени от безлюдных гор и близости от Шелкового пути и великой цивилизации Мерва, здесь мало что может привлекать. Воды мало, растительности практически нет, летом температура часто зашкаливает далеко за сорок. Тем не менее, несмотря на стихию и унылый пейзаж, парфяне решили построить цивилизацию именно здесь, где только небо и пустыня, построить наперекор всему.
И вот, много веков спустя, Сапармурат Ниязов проводит похожий эксперимент на современный лад. Как и другие республики Центральной Азии, в 1991 г. Туркменистан был выброшен, как лишний груз с тонущего советского корабля, оставлен на произвол судьбы со своим убогим хозяйством после почти семидесяти лет подчинения. Экономика держалась на монокультуре хлопка, добыче нефти и газа вахтовым методом, Туркмения служила также буфером между СССР и Средним Востоком. И неудивительно, что страна оказалась совершенно не готова к обретению независимости. Туркменский народ, полностью лишенный советским режимом славной боевой истории, национальной экономической, промышленной, политической инфраструктуры, оказался без управления.
Работать президентом новой "демократии" выпало советскому партийному боссу Сапармурату Ниязову - инженеру с ленинградским дипломом, который прошел свой путь наверх по ступеням партийной лестницы. Его стиль заключался в том, что дома он был крутой и жесткий, но в Москве не забывал проявлять нужное почтение. Не имея ничего, кроме хлопка, значительных, но не добытых полезных ископаемых, и толпы инертных пассивных граждан, Ниязов сумел обернуть свое безнадежное положение в свою пользу и превратил себя в полубога - Туркменбаши, то есть лидера всех туркмен. Его главная цель - вернуть славу и гордость своей родине. На практике же, он всего лишь присвоил эти идеалы лично для себя. Ниязов превратился в султана наших дней, который распространяет свою власть в стране до самого мелкого уровня и незамедлительно расправляется с любыми внешними влияниями, которые могли бы нарушить его образ туркменской утопии.
После десяти лет независимости, мало что видно от ниязовских "реформ", разве что на каждом шагу кричащие безвкусные памятники самому себе да вереница пустых шикарных отелей, тянущихся вдоль столичных улиц. Когда я в 1996-1999 гг. был добровольцем от Корпуса мира в Туркменистане, я решил, не обращая внимания на гнетущий нарциссизм президента, попытаться найти положительные изменения на низовом уровне. В то время, все же, были конкретные показатели возможности прогресса, несмотря на весь абсурд культа личности Ниязова. Английский язык наряду с туркменским и русским был объявлен приоритетным для всех студентов и учеников. Новый посол США Стивен Манн был назначен на эту должность с целью содействия переговорам по строительству Транскаспийского газопровода. Добровольцы Корпуса мира в сотрудничестве с местными обществами активистов создавали общественные библиотеки, компьютерные центры, летние лагеря для студентов и преподавателей и устанавливали неформальные связи среди активных сообществ, что давало возможности для роста и образования. Дела продвигались.
Однако в ходе недавней поездки в Ашгабат оказалось, что те маленькие шаги вперед превратились в топтание на месте, и в царстве Ниязова в обществе и культуре гайки закручены еще потуже. Большинство летних лагерей, общественных центров и ассоциаций, основанных при участии Корпуса мира сейчас закрыты. Во всех школах, за редким исключением, преподавание английского языка заставили прекратить, и школьные администрации заставляют оказывать помощь в уборке хлопка и пшеницы вместо улучшения качества образования. Кроме того, были закрыты театры оперы и балета, негосударственные организации с малейшей религиозной окраской были распущены. Во время моей поездки все Интернет-кафе в Ашгабате были закрыты и были приняты законы, запрещающие туркменским женщинам носить купальные костюмы. Все это подтвердило подозрение, что ниязовское "видение" Туркменистана - это унылая "пастораль пустыни", где простые люди живут скромно и бедно, как их предки, поклоняясь своему бесстрашному вождю, и даже в самых основных своих потребностях зависят от государства, в то время как преимущественно коррумпированная политическая и экономическая элита наслаждается своими "благодеяниями".
Продолжается ухудшение положения нетуркменского населения. С момента обретения независимости практически все русские были изгнаны со своих даже самых незначительных постов и правительство с ними обращается, как с гражданами второго сорта. В то же время Ниязов так ограничил миграцию, что для любого человека стало очень трудно получить разрешение на выезд, а для нетуркмен стало практически невозможно покинуть пределы страны. Все это нагнало на меня тяжелое чувство депрессии и неверия. Когда я ехал в такси, пьяный русский водитель всю дорогу клял судьбу: "Я не могу работать, я не могу уехать и я не могу жить", - восклицал он. "Чего они от меня хотят? Я всего лишь хочу нормально жить, а они мне не дают". "Что-то должно случиться", - размышлял вслух Мурат Анагельдыев (имена изменены, чтобы у моих собеседников не возникло проблем), завуч одной из школ в маленьком городке на востоке Туркменистана. "Через несколько лет этот деспотический режим должен рухнуть". Это, конечно, скорее желаемое, чем действительное, поскольку Ниязов объявлен пожизненным президентом. Когда я работал в Туркменистане, много людей все же верили, что Туркменбаши искренне волновала судьба народа. Критические замечания в его адрес часто встречали холодную или даже враждебную реакцию. Сегодня уже нет. Все, от школьников, таксистов и до директоров госпредприятий отзываются о нынешней ситуации в резких выражениях. Более того, вернулся старый страх перед КГБ (который сейчас называется Комитет Национальной Безопасности) и "стукачами", которых обвиняют в удушении страны. Является ли КГБ действительно активным или нет, но растущий уровень страха - это реакция на деспотическую политику Ниязова и его министров. И когда в тексте торжественной присяги есть такие слова: "Пусть перестанет биться мое сердце в тот миг, когда я предам свою родину, ее священный флаг и моего Президента", становится понятно, почему смирное и пассивное население отказывается раскачивать лодку.
В маленьком городишке к юго-востоку от Мерва, жемчужины древнего Шелкового пути, жизнь течет своим чередом. Летняя жара загнала всех, кроме детей в тень виноградника. Люди принимают меня как брата и друга и проявляют ко мне такое гостеприимство, равного которому я еще не встречал нигде в мире. Несмотря на заработки в сорок долларов или даже меньше, на ковре полно традиционных туркменских и советских деликатесов - пельмени, верблюжье молоко, плов, чуреки, и, спасибо русскому влиянию, много водки. Эти люди выживают в таких условиях, что на Западе такое невозможно представить. Женщины тут будут крепче, чем их знаменитые ковры. Если местные мужики живут, как правило, в свое удовольствие, пьют вволю (хоть и мусульмане), а с женами и детьми обращаются как с прислугой, то женщины - хранительницы семейного очага, культуры и религии. Едва ли не все туркменские женщины и девушки носят традиционную длинную одежду, богато украшенной красивой вышивкой и покрывают головы яркими платками. Они никогда не пьют спиртного, исполняют любые прихоти своих мужей, выполняют всю работу в доме, в саду и огороде, и смотрят за своим многочисленным потомством (в семьях обычно пять-шесть детей). Женщины, в большой мере, настолько сильно заняты хозяйством и семьей, что у них не остается сил и времени, чтобы интересоваться политическими или общеэкономическими проблемами. В то же время женатые мужчины заняты содержанием семьи, поэтому они не могут или не хотят интересоваться чем-то другим. И это - прямой результат действий Ниязова. Чем более отсталое общество, тем большая вероятность того, что ему удастся удерживать над ним свою власть. Туркменские дети, как и везде, активные, любознательные и инициативные. Когда они еще растут, они полны надежд и стремлений, несмотря на непростые условия жизни. К сожалению, в Туркменистане мало что могут сделать для того, чтобы этот юношеский пыл не угасал. Чем ближе срок окончания обязательного обучения в школе (9 лет как для туркменских, так и для русских детей), тем сильнее чувствуется в учениках страх и отчаяние. Куда им идти? Как они будут жить и развиваться, если их родители получили образование и воспитание во время советского режима, когда была хоть какая-то возможность найти работу, а теперь - нет. Никто не сможет ответить на эти вопросы. Как преподаватель, я пытался вдохновлять и поощрять моих учеников и коллег, я обращал их взор к звездам, чтобы они проявляли свои таланты и фантазию. А сейчас как больно мне сознавать, что это поощрение принесло скорее больше вреда, чем пользы. Нужно ли показывать путь вперед, к прогрессу, к росту каждой личности, если система этот путь явным образом закрывает?
Ниязов большой любитель лепить разные патриотические лозунги на стенах домов по всей стране. Основной лозунг "Халк, Ватан, Туркменбаши" (Народ, Отчизна, Туркменбаши) до боли напоминает Гитлеровский слоган "Ein Volk, Ein Reich, Ein Fuhrer" (Один Народ, Один Рейх, Один Фюрер). Несколько лет назад в самом большом ходу был лозунг "Десять лет к процветанию". Сейчас он вышел из употребления, это объясняется тем, что Ниязов, наверное, понял, что за что бы он не принимался, у него всегда на это должно уйти десять лет. Теперь у Ниязова новый самый любимый, судя по массовости его употребления слоган: "Алтын Асыр" - "Золотой век для туркмен". Заявление, что XXI век будет золотым, звучит просто как издевательство, когда смотришь из окна разваливающегося дома советской постройки на толпы людей, которые получают свои 40 долл. В бывших колхозах это еще больше режет слух. Для большинства крестьян сбор хлопка - единственный источник дохода. За каждый собранный килограмм хлопка они получают 100 манатов (менее 0,5 цента) и их годовой доход составляет около 50 долл. Единственный способ для Ниязова сделать этот век золотым - это природный газ. В то время, как мир все больше обращает свой взор на этот более экологически чистый вид топлива, огромные туркменские запасы - его самый главный козырь. К сожалению, страна не обладает надлежащей трубопроводной инфраструктуры по транспортировке газа на международный рынок. На сегодняшний день только очень небольшую его часть можно поставить на экспорт, почти весь экспортируемый газ уходит в бывшие советские республики, большинство из которых не может платить деньгами, и поэтому вынуждены поставлять по бартеру продовольствие и низкокачественный текстиль. Но даже действительно ценные и необходимые товары не в состоянии создать инфраструктуру. Поддерживаемый Соединенными Штатами Транскаспийский газопроводный консорциум (TCGP) - СП PSG International и Shell, так и не смог договориться с Ниязовым по вопросу строительства трубопровода по дну Каспийского моря в Турцию - переговоры постоянно заходили в тупик. Проект на миллиарды долларов, его реализация заняла бы годы. Похоже, Ниязов пытается спровоцировать войну между TCGP и российским "Газпромом", чтобы обеспечить более высокие цены на туркменский газ. В конечном его тактика не сработала. TCGP тихо пакует чемоданы, оставляя на столе окончательный вариант своих предложений. Ниязов ведет переговоры так, как будто он может себе позволит взять деньги или отказаться от них, в то время как его страна сидит на мели.
В то время когда давление Запада и сам ход истории диктуют необходимость отхода от диктатуры к политике открытых дверей, Ниязов, похоже, двигается в прямо противоположном направлении. Не опускаясь до устаревших ужимок советских боссов, он придал самому себе богоподобный, мифический статус, что как-то не соотносится с современной действительностью. Памятники Ниязову продолжают расти, как грибы в столице и по всей стране. Недавно он завел новую моду: раздавать пачки американских долларов музыкантам и танцорам, которые ублажают его одами и танцами. Все это вселяет в простых туркменских граждан чувство отвращения и стыда. Если Ниязову еще можно отдать должное за то, что он сделал Туркменистан независимым (хотя этот "подарок" был ему навязан), за то, что он добился для страны нейтрального статуса и стабильности (или, точнее, пассивности), его потребность в самовозвеличивании принесла прямо противоположный результат. В то время, как добровольцы из "Корпуса мира", общественные активисты и другие люди расходовали свое время и силы на то, чтобы поддержать свободомыслие и прогресс в развитие каждого человека, режим Ниязова настроен на полное торможение любого социального развития. Граждане Туркменистана часто указывают на пример Кувейта - маленькой страны с огромными природными богатствами, как на модель их будущего процветания. С небольшим населением (менее 5 миллионов человек), с одобренным ООН нейтральным статусом, отсутствием социальных и религиозных конфликтов - для Туркменистана эта мечта может быть осуществима. Это, конечно, только в том случае, если Туркменбаши предпримет все необходимое, чтобы способствовать и управлять этим процессом. Если по прошествии десяти лет после завоевания независимости туркмены и весь остальной мир что-то понял, так это то, что у Ниязова собственные представления о будущем своей страны, и что он будет делать все что угодно ради упрочения и прославления собственной власти. Мы же можем только надеяться, что его преемник, кем бы он ни был и когда бы он не пришел к власти, не будет усваивать принципы демократии, человечности и хорошего правления от Ниязова. Если это действительно "Золотой век" для Туркменистана, то, кажется, туркменскому народу надо дождаться второй его половины.