7 ноября 2007
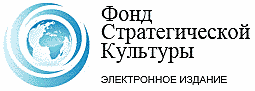
Возвращение к блоковой системе сдерживания
6 ноября 2007
Возвращение к блоковой системе сдерживания
05.11.2007, Фонд стратегической культуры
Гурия МУРКЛИНСКАЯ
Разрушение старой двухполюсной системы мира обострило внутриблоковые противоречия в стане победителей. Конфликты из-за раздела сфер влияния в изменившемся мире привели к столкновению интересов между набирающей силу объединенной Германией и США, Турцией и США, Саудовской Аравией и США. Причем, если для Америки конфликт с Турцией носит региональный характер, то конфликт с Германией - глобальный. Поскольку военные действия американцев в Афганистане никак не назовешь победоносно завершенными, разбираться со сложными проблемами этой страны Вашингтон предполагает передоверить немецкому бундесверу. Неясно только, устроит ли это Берлин.
Борьба между США и Саудовской Аравией за преобладающее влияние в Каспийском регионе и сохранение контроля над ценообразованием на нефть стала одной из причин стремительного распространения «ваххабизма» в мусульманских регионах России. Именно этой внутриблоковой борьбе обязаны Северный Кавказ, в особенности Чечня и Дагестан, кровавой «ваххабитской» эпопеей. После десятилетий атеизма в момент крушения СССР в регион при щедрой поддержке извне были заброшены семена псевдорелигиозного экстремизма. Правда, к этому времени саудовский режим уже сам столкнулся с проблемой информационно-идеологического «вируса», запущенного под видом очищения веры в Афганистане. Вернувшиеся с войны моджахеды, сами уверовали в то, чем должны были завлекать афганцев в борьбу с «шурави»; они понесли новую «веру» в свои страны, где «вирус» принялся разрушать традиционные устои.
«После завершения афганской войны, в которой приняли активное участие граждане Саудовской Аравии, королевство столкнулось с радикализмом вернувшихся в страну ветеранов Афганистана. В конце 80-х они составили наиболее непримиримую оппозиционную силу, выступавшую против правящего режима. Начало 90-х годов было ознаменовано активизацией саудовской оппозиции в самой стране и за ее пределами. Идеологи оппозиции Салман ал-Сауда и Сафар ал-Хавали принимали активное участие в распространении «ваххабитских» идей в Дагестане, Чечне и ряде других регионов России. Деятельность этой части саудовской оппозиции, в особенности за рубежом, под прикрытием гуманитарных фондов, хотя и привлекала внимание властей королевства, тем не менее, жестко не пресекалась, так как правящий клан судайри сам был заинтересован в распространении своего влияния в мусульманском мире. Достаточно вспомнить, насколько тесными были связи между правящим кланом Саудидов и афганскими талибами, в особенности в середине - второй половине 90-х годов, чтобы убедиться в характере религиозного и политического миссионерства Саудовской Аравии за рубежом»1.
И это же самое относится, хотя и в меньшей степени, ко всем мусульманским государствам, чьи добровольцы приняли участие в афганской войне. Все они, вернувшись домой, пополнили ряды радикальной оппозиции. Стоит добавить, что большинство из них за время войны прошло специальную подготовку в лагерях спецслужб США и их союзников в этой войне. «В 80-х годах ХХ века саудовское правительство посылало тысячи добровольцев в Афганистан для «защиты ислама против коммунистического неверия». Немало моджахедов после войны вернулись в Саудовскую Аравию и Йемен, чтобы «продолжить борьбу против порока и защитить принципы ислама». Многие участники афганских событий в настоящее время обучают партизан или ведут борьбу с правительствами в Египте, Алжире, Боснии и Чечне»2.
В начале 90-х большинство этой агентуры еще в какой-то мере было подконтрольно тем спецслужбам, с которыми работало во время афганской войны и участвовало в операциях, отвечавших интересам США на Балканах и в Чечне. Такую оценку, подтверждают и иностранные аналитики, и сами саудовкие диссиденты. «Саудовская Аравия, которая имеет давние традиции использования ислама в политических целях, заинтересована в том, чтобы «афганские» моджахеды действовали за пределами страны и не создавали проблем для королевства. В силу этого, часть из них, после попыток проводить политическую деятельность на территории королевства, находится в заключении, другая - действует в составе структур религиозной оппозиции за пределами страны, третья - выступает в качестве политического инструмента в рамках джихада в различных регионах мусульманского мира»3.
И здесь возникает вопрос: кто все-таки был заказчиком терактов 11 сентября в Америке - преступления, повлекшего за собой две войны (Афганистан, Ирак) и распространение военно-политического присутствия США по всему миру?
Вот как характеризует отношение Запада к мусульманам после 11 сентября сотрудник Московского центра Карнеги А. Малашенко: «В США к исламу на протяжении ближайших лет будет преобладать негативное отношение. Американское общественное мнение поддержит силовые акции в мусульманском мире, и недоверие к мусульманам продержится неопределенно долго: мемориал на месте Всемирного торгового центра послужит поводом для рассказов детям и внукам о том, что здесь стояли дома, которые взорвали «плохие мусульмане». Такая оценка распространится и на миллионы американских мусульман, часть которых скомпрометировала себя в глазах общества публичной солидаризацией с акцией бен Ладена. В ближайшие два-три года отношения США со странами мусульманского мира будут развиваться в контексте проведения антитеррористической кампании. К каким бы эвфемизмам ни прибегать, все равно очевидно, что терроризм, от которого собираются защищаться в Америке и Европе, имеет, прежде всего, «исламские корни»4.
В свете последних событий нарастание партизанской борьбы в Ираке выглядит уже не столь однозначно. Афганистан и Ирак определенно превращаются в арену новой формы войны, главную роль в ней играют пришлые моджахеды: обостряя ситуацию путем провоцирования коалиционных войск на бомбовые удары и зачистки, в которых неизбежно страдает население, они вовлекают в свой «джихад» все большее количество людей. Здесь их тактика идентична тактике боевиков в Чечне. Интересно, что и тактика американцев очень похожа на то, что до недавнего времени происходило в Чечне, а сейчас происходит в Афганистане.
По всей Чечне, долго уходя невредимыми из любых боев и ловушек, свободно бродили Хаттаб и Басаев. Легко находили их почему-то одни журналисты. В Афганистане обрисовалась демоническая фигура Бен Ладена, который никогда так и не будет пойман. В Ираке на какое-то время таким же героем стал Саддам Хусейн, теперь эту роль успешно выполняет «импортная» Аль-Каида. Возникает вопрос, кому эти персонажи больше нужны: народам, которые за них «наказывают», или тем, кому нужно оправдать войну? Как мы помним, оружие массового уничтожения в Ираке так и не нашли.
Воинствующая исламская оппозиция, особенно, если ее костяк составили моджахеды, прошедшие школу Афганистана, уже к началу 90-х превратилась в самую серьезную угрозу для стран своего происхождения. «Огромные - более 150 млрд. долл. - ежегодные нефтяные прибыли арабских экспортеров в 70-х - начале 80-х годов (только Саудовская Аравия в 1981 г. получила без малого 119 млрд. долл.) не стали трамплином для реформирования общества, но напротив, обернулись финансовой основой для консервации. Однако обеспеченная нефтью архаика не может сохраняться бесконечно долго»5, - писал Загир Арухов.
В своей монографии «Ваххабизм и духовенство в политической структуре саудовского общества» З. Арухов выделял два важных момента конфронтации, характерные для всех мусульманских государств, действующих в русле американской внешней политики:
а) «До недавнего времени огромные запасы и доходы от продажи нефти и нефтепродуктов были основой экономики Саудовской Аравии, гарантировали ей значительное влияние в региональной и глобальной политике, не говоря уже о том, что королевство имеет очень серьезное политическое и религиозное влияние в современном мире. Однако к настоящему времени совокупная задолженность Саудовской Аравии достигает более 200 млрд. долларов. Правящему клану Саудитов предстоит решить сложную задачу - остаться у власти, улучшив экономическую ситуацию в стране за счет привлечения иностранного капитала, и одновременно не потерять доверие собственного населения и остального исламского мира»6;
б) «Американская внешняя политика в зоне Персидского залива в значительной степени предопределяется «национальными интересами», которые диктуют необходимость поддержки тех режимов, которые управляют огромными нефтяными ресурсами региона, что, в свою очередь, вынуждает оказывать на них постоянное влияние: Именно нефть выступает главным фактором американской внешней стратегии. Поэтому неудивительно, что растущая зависимость от иностранных государств напрямую связывается местным населением с масштабами коррупции и неумелым руководством их собственных правительств»7.
В силу этих причин Саудовская Аравия, Турция, Пакистан, оставаясь союзниками США, активно подпитывают международную террористическую сеть.
В желании Саудитов решить внутренние проблемы за счет экспорта исламских идей в мусульманские регионы России и крылась причина всемерной поддержки саудовским режимом чеченского сепаратизма и внедрения раскольнических «ваххабитских» сект по всему Северному Кавказу. Эта политика Саудовского королевства имела успех также потому, что поддержка контролируемой исламской террористической сети в ключевых регионах мира пока еще выгодна Америке, ибо сплачивает вокруг нее все государства, которым угрожает терроризм.
В настоящее время США располагают возможностью спровоцировать внутриполитический кризис почти в любом государстве с тем, чтобы создать условия для внешнего вмешательства. «Существо теории, лежащей в основе политики Вашингтона, состоит в том, что США должны так «управлять» кризисом, чтобы в конечном итоге добиваться уступок от противника и сохранять собственные позиции». По мнению американских стратегов, кризис может не только включать чрезвычайно рискованные шаги, но и для него вообще характерен элемент опасности и неопределенности.
Еще в конце 80-х Вашингтон в различных районах земного шара начинает широко применять методы балансирования на грани войны. «Кризисная стратегия» рассматривается как специфический вид военной стратегии, как способ осуществления военной стратегии в условиях, когда война не объявлена. В американской военно-политической практике выделяются три модели «кризисного поведения»: балансирование на грани войны, преднамеренное создание кризисов для оправдания уже задуманной агрессивной акции и демонстрация силы в качестве средства принудительного или психологического воздействия на противную сторону8.
Если Вашингтон находит то или иное формально суверенное государство достаточно «лояльным», ему будет позволено бороться с «исламским» терроризмом (но, поскольку терроризм необходим Америке как один из инструментов ее внешней политики, добивать его окончательно нельзя!); если же государству не удалось убедить США в своей абсолютной «лояльности», борьба с терроризмом будет названа «геноцидом малого народа», на «управление конфликтом» будут брошены дополнительные силы и средства, а власть и армия данного государства будут деморализованы с помощью правозащитных организаций и СМИ. Если и это не поможет, последует прямая «гуманитарная интервенция». Элементы такого сценария можно обнаружить в Чечне, Югославии, Ираке...
Опасения интервенционизма со стороны США - это главный мотив возвращения к новой блоковой политике. В планы многих государств, оказавшихся под угрозой шантажа со стороны Запада, уже явно не входит слепое подчинение внешнему давлению. Агрессивные действия США и НАТО все больше вызывают противодействие в мире. Необходимость создания системы коллективной безопасности России, стран СНГ, других государств Евразии, особенно на территориях, объявленных «зонами жизненных интересов» США, становится очевидной. Уже в ближайшее время это, по всей вероятности, приведет к тому, что «расширению» НАТО на восток будет поставлен заслон в виде нового континентального блока, гарантирующего его участникам коллективную безопасность. Процессы в рамках ШОС, ОДКБ, Прикаспийский саммит «Тегеран-2007» - первые шаги в данном направлении.
____________ 1 Арухов З. Ваххабизм и духовенство в структуре саудовского общества. С. 163.
2 Там же, С. 162.
3 Там же.
4 Малашенко А. «Мусульмане в начале века: надежды и угрозы»/ Московский Центр Карнеги, Москва, ? 7- 2002 г., с 16.
5 Малашенко А Мусульмане в начале века:, с. 8
6Арухов З.С. «Ваххабизм и духовенство в политической структуре саудовского общества», Махачкала, 2000. С. 7.
7 Там же.
8 Тимохин П.П. «Военно-силовая политика США. //Москва-Воениздат - 1987, с. 190.